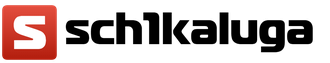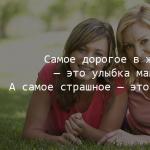«А, ты думал я тоже такая…» Анна Ахматова
А ты думал — я тоже такая,
Что можно забыть меня,
И что брошусь, моля и рыдая,
Под копыта гнедого коня.Или стану просить у знахарок
В наговорной воде корешок
И пришлю тебе странный подарок —
Мой заветный душистый платок.Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь,
И ночей наших пламенным чадом —
Я к тебе никогда не вернусь.
Анализ стихотворения Ахматовой «А, ты думал я тоже такая…»
После разрыва отношений с Николаем Гумилевым Анна Ахматова мысленно продолжает вести с ним споры и диалоги, упрекая бывшего супруга не только в изменах, но и в разрушении семьи. Действительно, у поэтессы накопилось слишком много претензий к этому человеку, который сперва добивался ее любви, а затем бросил, словно игрушку. Выходя замуж за Гумилева, Анна Ахматова была уверена, что приносит себя в жертву человеку, который ее боготворит. Сама же поэтесса не испытывает к своему избраннику любви, считая, что и без этого можно построить довольно прочную и счастливую семью. Однако очень скоро ситуация кардинально меняется, так как поэтесса без памяти влюбляется в собственного супруга. Гумилев же, несмотря на рождение сына, все больше отдаляется от супруги, которую не может подчинить своей воле. Действительно, Ахматова проявляет завидное упорство в вопросах, касающихся литературы, и вскоре своей славой затмевает даже мужа, который искренне убежден, что женщина по своей природе не может быть поэтом. Естественно, принять поражение от Ахматовой он не в силах, поэтому союз двух творческих личностей оказывается обреченным.
Что бы ни говорили современные исследователи творчества Ахматовой, она до самой смерти продолжала любить своего первого супруга, хотя и признавалась, что порой на смену этому чувству приходят злость и ненависть. Ведь, оставив ее ради других женщин, Гумилев взял реванш, лишив супругу возможности сделать ответный шаг. Именно по этой причине она мысленно продолжает с ним неоконченный разговор и в 1921 году посвящает супругу стихотворение «А, ты думал – я тоже такая…». В нем Ахматова открыто обвиняет Гумилева в изменах, подчеркивая при этом, что никогда не уподобится его избранницам и не станет молить о любви.
Поэтесса знает, что искренняя любовь не может быть приворотной, поэтому отметает возможность приворожить супруга и отказывается от всех тех глупых поступков, которые нередко совершают отчаявшиеся женщины. Но и простит причиненной обиды она не в состоянии. Поэтому, обращаясь к бывшему супругу, заявляет: «Будь ты проклят». Она не догадывается, что очень скоро этим словам суждено будет исполниться. Но в тот момент, когда пишутся эти строки, Ахматова готова на все, чтобы заставить Гумилева страдать. А ее уязвленное женское самолюбие заставляет дать страшную клятву: «Я к тебе никогда не вернусь». Свое слово Ахматовой удается сдержать, но лишь по той причине, что менее чем через месяц Гумилев будет расстрелян, о чем поэтесса узнает лишь через много лет.
Что можно забыть меня,
И что брошусь, моля и рыдая,
Под копыта гнедого коня.
Или стану просить у знахарок
В наговорной воде корешок
И пришлю тебе страшный подарок -
Мой заветный душистый платок.
Будь же проклят. Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом -
Я к тебе никогда не вернусь.
Эта особенность ахматовской любовной лирики, полной недоговоренностей, намеков, уходящей в далекую, хочется сказать, хемингуэевскую, глубину подтекста, придает ей истинную своеобразность. Героиня ахматовских стихов, чаще всего говорящая как бы сама с собой в состоянии порыва, полебреда, считает нужным, да и не может дополнительно разъяснять и растолковывать нам все происходящее. Передаются лишь основные сигналы чувств, без расшифровки, наспех - по торопливой азбуке любви. Подразумевается, сто степень душевной близости чудодейственно поможет нам понять как недостающие звенья, так и общий смысл только что происшедшей драмы. Отсюда - впечатление крайней интимности, предельной откровенности и сердечной открытости этой лирики, что кажется неожиданным и парадоксальным, если вспомнить ее одновременную закодированность и субъективность.
Кое-как удалось разлучиться
И постылый огонь потушить.
Враг мой вечный, пора научиться
Вам кого-нибудь вправду любить.
Я-то вольная. Все мне забавы,
Ночью Муза слетит утешать,
А наутро притащится слава
Погремушкой над ухом трещать.
Об мне и молиться не стоит
И, уйдя, оглянуться назад…
Черный ветер меня успокоит
Веселит золотой листопад.
Как подарок, приму я разлуку
И забвение, как благодать
Но, скажи мне, на крестную муку
Ты другую посмеешь послать?
Цветаева писала, что настоящие стихи быт обычно «перемалывают», подобно тому как цветок, радующий нас красотой и изяществом, гармонией и чистотой, тоже «перемолол» черную землю. Она горячо протестовала против попыток иных критиков докопаться до земли, до того перегноя жизни, что послужили «пищей» для возникновения красоты цветка. С этой точки зрения она страстно протестовала против обязательного и буквалистского комментирования. В известной мере она, конечно, права. Главное в стихотворении, что нас захватывает, это страстная напряженность чувства, его ураганность, а также и та беспрекословность решений, которая вырисовывает перед нашими глазами личность незаурядную и сильную.
О том же и почти также говорит и другое ее стихотворение, относящееся к тому же году, что и только что процитированное:
Как первая весенняя гроза;
Из-за плеча твоей невесты глянут
Мои полузакрытые глаза.
Прощай, прощай, будь счастлив, друг прекрасный,
Верну тебе твой радостный обет,
Но берегись твоей подруге страстной
Поведать мой неповторимый бред, -
Затем, что он пронижет жгучим ядом,
Ваш благостный, ваш радостный союз…
А я иду владеть чудесным садом
Где шелест трав и восклицанья муз.
Поскольку, как уже было сказано, Ахматова после первого, по ее выражению, постановления ЦК не могла печататься 14 лет, то она вынуждена была заниматься переводами. Она получила заказ на перевод писем Рубенса и перевела их. Одновременно, в ожидании других заказов, впрочем, не торопившихся последовать, она занялась, по-видимому, по совету Пунина, за которого вышла замуж после Шулейко, архитектурой пушкинского Петербурга.
Для понимания творчества Ахматовой ее переводы имеют немалое значение - не только потому, что переведенные ею стихи, исключительно верно доносят до русского читателя смысл и звучание подлинника, становясь в то же время фатами русской поэзии, но и потому, что в предвоенные годы переводческая деятельность часто и надолго погружала ее поэтическое сознание в обширные миры интернациональной народной поэзии.
Стих Ахматовой, жизнелюбивый по своей природе, чутко и драматично реагировал на приближение великой мировой трагедии. Он, для многих неожиданно, вобрал в себя и сделал своим достоянием проблемы животрепещущей политической жизни Европы.
Начало второй мировой войны Ахматова осмысляла широко и верно - она предвидела, что в орбиту едва начавшихся военных действий будут постепенно втянуты многие и многие народы, в том числе, возможно, и ее собственный. Вглядываясь в развертывавшуюся мировую войну, она писала:
Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой
Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцем дрожать, -
Только не эту, не эту, не эту,
В поэме «Путем всея земли» она писала:
От старой Европы, остался лоскут…
Стихотворение построено по принципу пушкинской антитезы: равнодушная природа и враждующий человек. Видения горящих городов, возникающих в ее воображении, чередуются с картинами пленительной природы, чуждой человеческим страстям.
«В тот час, как рушатся миры», Ахматова не смогла остаться спокойным созерцателем событий. «Могильщики лихо работают», - писала она в цикле стихов «В сороковом году»
Когда погребают эпоху
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, господи тихо,
Что слышно, как время идет
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, -
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.
И клонятся головы ниже,
Как маятник, ходит луна.
Так вот - над погибшим Парижем
Такая теперь тишина.
Предвоенные стихи, собранные в «Тростнике» и «Седьмой книге», говорили, таким образом, о расширении диапазона лирики Ахматовой. По существу они перекликались со многими произведениями советской поэзии тех лет, чутко реагировавшей на приближение военной грозы. Достаточно вспомнить хотя бы общеизвестные стихи, посвященные предвоенной Европе, в циклах Ильи Эренбурга, писавшего о начавшемся «пятом акте» общемировой трагедии.
В стихотворениях и поэмах 30-х годов, создавшихся на тревожно-мрачном фоне начавшейся мировой войны и в дни горестных событий личной жизни, Ахматова вновь вернулась к фольклору - к народному плачу, к причитанию. Сердцем она уже знала народную трагедию. В ее произведениях все чаще возникают мысли о судьбах народа, нации, государства. Отсюда - широта интонации, вбирающей в себя многоразличные, подслушанные у жизни голоса и звуки. Личное смятение и горе, тоска и боль постоянно смешиваются в ее лирике и поэмах с несравненно более широкой мелодией объединяющей и поддерживающей поэта скорби. Великая печаль, осеняющая строфы поэм и строчки стихов, похожа на взмах широко раскинутых крыльев, горестно застывших над разоренным гнездом, но продолжающих держаться и парить на упругих воздушных струях, бегущих к ним от теплой родительской земли…
30-е годы оказались для Ахматовой порой наиболее тяжких в ее жизни испытаний. Она оказалась свидетелем не только развязанной фашизмом второй мировой войны, вскоре перешедшей и на землю ее Родины, но и другой, не менее страшной войны, которую повели Сталин и его приспешники с собственным народом. Чудовищные репрессии 30-х годов, обрушившиеся едва ли не на всех друзей и единомышленников Ахматовой, разрушили и ее семейный очаг: вначале был арестован и сослан сын, студент Ленинградского университета, а затем и муж - Пунин. Сама Ахматова жила все эти годы в постоянном ожидании ареста. В длинных и горестных тюремных очередях, чтобы сдать передачу сыну и узнать о его судьбе, она провела, по ее словам, семнадцать месяцев. В глазах властей она была человеком крайне неблагонадежным: женой, хотя и разведенной, «контрреволюционера» Гумилева, расстрелянного в 1921 году, матерью арестованного «заговорщика» Льва Гумилева и, наконец, женой (правда, тоже разведенной) заключенного Пунина.
Муж в могиле, сын в тюрьме,
Помолитесь обо мне…
писала она в «Реквиеме», исполненном горя и отчаяния.
Ахматова не могла не понимать, что ее жизнь постоянно висит на волоске, и, подобно миллионам других людей, оглушенных невиданным террором, она с тревогой прислушивалась к любому стуку в дверь.
Казалось бы, в таких условиях писать было немыслимо, и она действительно не писала, то есть не записывала своих стихов, отказавшись, по ее выражению, не только от пера и бумаги, которые могли стать уликой при допросах и обысках, но, конечно же, и от «изобретения Гуттенберга», то есть от печати.
К концу 20-х годов и в 30-е годы Ахматову начинают привлекать библейская образность и ассоциации с евангельскими сюжетами. Библейские образу и мотивы давали возможность предельно широко раздвинуть временные и пространственные рамки произведений, чтобы показать, что силы зла, взявшие в стране верх, вполне соотносимы с крупнейшими общечеловеческими трагедиями. Ахматова не считает происшедшие в стране беды ни временными нарушениями законности, которые могли бы быть легко исправлены, ни заблуждениями отдельных лиц. Библейский масштаб заставляет мерить события самой крупной мерой. Ведь речь шла об исковерканной судьбе народа, о геноциде, направленном против нации и наций, о миллионах безвинных жертв, об отступничестве от основных общечеловеческих моральных норм.
По каким-то неисповедимым законам творчества трагедия 30-х годов словно высекла искру из кремля, и пламя ее творчества взметнулось на разрушенный семейный очаг, на мучительные тюремные очереди, на постоянное ожидание ареста:
Я пью за разоренный дом.
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем,
И за тебя я пью, -
За лось меня предавших губ,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и груб,
За то, что бог не спас.
(Последний тост)
ахматова лирика поэтесса стих
Любовь — главный мотив всякого лирического поэта, наиболее близкий читателю. Стихи Анны Ахматовой — всегда воспоминание. Но вспоминая и воссоздавая какую-нибудь лирическую тему, она не воспроизводит всего мира со всей его красочной пестротою, а лишь одну какую-нибудь черту, чем-либо ей запомнившуюся, чем-либо для данной темы характерную.
Сама по себе эта черта ее даже не интересует, но она заменяет внешнее изображение и служит внешним знаком внутреннего переживания, характеристикой происшедшего, освобождения от гнетущей власти мучительной любви:
А, ты думал — я тоже такая,
Что можно забыть меня,
И что брошусь, моля и рыдая.
Под копыта гнедого коня.
Главная героиня — женщина, которая свою любовь переплавляет в ненависть, потому что так проще. Легче прогнать мужчину, пусть это больно, но можно принять это как свой выбор, как свое решение, хотя по тексту произведения явно читается совершенно иная ситуация. Это стихотворение содержит описание компенсаторных (защитных) форм реагирования, это как бы реплики в ответ на оставшуюся «за кадром» фразу. Впрочем, полный сценарий любовного поединка читается без труда, чему в немалой степени способствует общий контекст ахматовской лирики «Вечера», «Четок» и «Белой стаи».
С другой стороны, некоторые ахматоведы (например, Г. Гуковский), считают, что строки:
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом…
Это – некий прообраз клятвы Демона… Стихотворение — описание мысли о чувстве, запомнившихся картинок про те чувства, которые сегодня забыты как чувства, но живы, как мысли о них. Стихотворение – статично, недвижно, в нем наблюдается некоторая диссоциация сознания и чувств. С одной стороны, женщина страстно хочет быть любимой и чувствовать со стороны близких (значимых) мужчин отеческую заботу, с другой стороны, ставит себя в позицию матери по отношению к ним.
Или стану просить у знахарок
В наговоной воде корешок
И пришлю тебе странный подарок —
Мой заветный душистый платок.
Это — конкретные человеческие чувства, конкретная жизнь души, которая томится, радуется, страдает. Героиня нисколько не отметает любовь, она по-прежнему чувствует себя рожденной для нее, но она разрывает с прежней покорной каменной зависимостью от любви, и приобретает свою свободу и даже — некое господство над другими. Ее мучение переливается в мстительное предупреждение:
Будь же проклят.
Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь,
И ночей наших пламенным чадом —
Я к тебе никогда не вернусь.
Стихи рисуют образ человека, который каждое свое новое чувство, каждое новое событие своей жизни отмечает записью — перед нами как будто отрывок из автобиографии, дневника.
Мгновенными «гейзерами», «романами-миниатюрами «называл стихи Анны Ахматовой наблюдательный Василий Гиппиус, поскольку в подобных стихах-фрагментах чувство действительно как бы мгновенно вырывается наружу из некоего тяжкого плена молчания, терпения, безнадежности и отчаяния. Нередко миниатюры А. Ахматовой были, в соответствии с ее излюбленной манерой, принципиально не завершены и походили не столько на маленький роман в его традиционной форме, сколько на случайно вырванную страничку из романа или даже часть страницы, не имеющей ни начала, ни конца. Форма случайно и мгновенно вырвавшейся речи, которую может подслушать каждый проходящий мимо или стоящий поблизости, но не каждый может понять, позволяет ей быть лапидарной, нераспространенной и многозначительной… Признание, отчаяние или мольба, составляющие стихотворение, кажутся как бы обрывком разговора, который начался не при нас и завершения которого мы тоже не услышим.
Эта особенность ахматовского стиха, полного недоговоренностей, намеков, уходящих в глубину подтекста, придает ее лирике истинную своеобразность. Героиня ахматовских стихов, чаще всего говорящая как бы сама с собой в состоянии порыва, полубреда или экстаза, не считает, естественно, нужным, да и не может дополнительно разъяснять и растолковывать нам все происходящее. Передаются лишь основные сигналы чувств, без расшифровки, без комментариев, наспех — по торопливой азбуке любви. Подразумевается, что степень душевной близости чудодейственно поможет нам понять как недостающие звенья, так и общий смысл только что происшедшей драмы. Отсюда — впечатление крайней интимности, предельной откровенности и сердечной открытости этой лирики, что кажется неожиданным и парадоксальным, если вспомнить ее одновременную закодированность и субъективность. Ахматова не дает нам ни малейшей возможности догадаться и судить о конкретной жизненной ситуации, продиктовавшей ей это стихотворение. Но, возможно, как раз по этой причине — по своей как бы зашифрованности и непроясненности — оно приобретает смысл, приложенный ко многим другим судьбам, а иногда и совсем к несходным ситуациям. Главное в стихотворении то, что захватывает: страстная напряженность чувства, его смятенность, стихийность, а также и та беспрекословность решений, которая вырисовывает перед нашими глазами личность незаурядную и сильную.